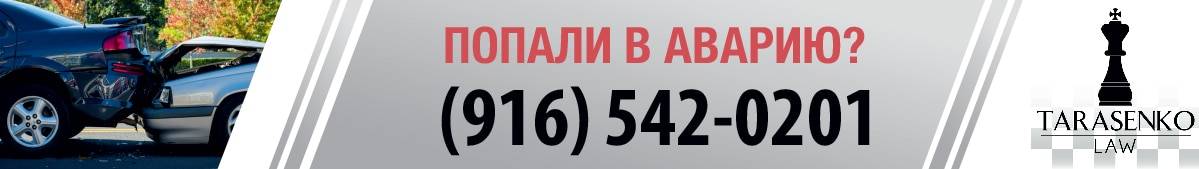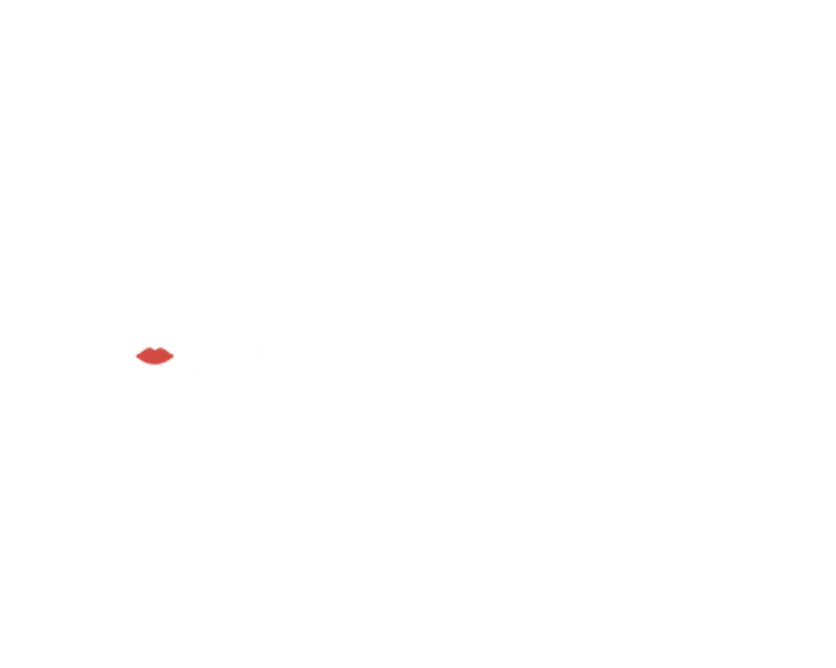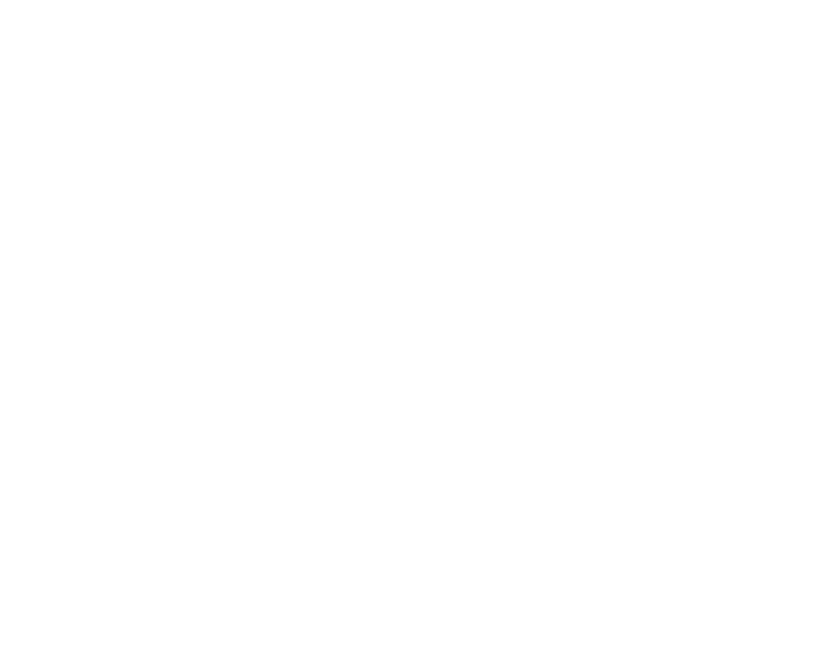В среде русскоязычных иммигрантов обычно существуют два взаимоисключающих мифа о дружеских качествах американцев. Некоторые уверены, что американцы намного дружелюбнее россиян, и это касается не только банальной вежливости, но и количества времени, проведенного с друзьями. Другие же утверждают, что американское дружелюбие в лучшем случае поверхностно, а в худшем – лицемерно, и жалуются на невозможность выстроить в иммиграции близкие отношения и встретить подлинную душевность. В чем особенности дружбы с американцами, – разбиралась журналист Ксения Кириллова.
Разница менталитетов
На самом деле возможны ситуации, в которых оба эти мифа далеки от реальности. Если на густонаселенных побережьях США отношения действительно часто носят более формальный характер, то где-нибудь в американской глубинке они могут довольно быстро перерасти если не в глубокую дружбу, то по крайней мере во вполне искреннюю взаимопомощь. С другой стороны, излишняя душевность в отношениях с коллегами в трудовых коллективах в Соединенных Штатах не принята, и может быть истолкована превратно – как, к примеру, ваша попытка интриговать, нарушать субординацию или даже найти некий «коррупционный» способ нивелировать свой непрофессионализм.
В Америке вполне возможны случаи, когда незнакомый человек при первой же встрече может не только начать разговаривать о погоде и прочих банальностях, но и делиться подробностями своей личной жизни и даже медицинскими диагнозами. С другой стороны, некоторые иммигранты жалуются, что подобная открытость с их стороны привела к трагическим последствиям – особенно в случаях, когда они легкомысленно признавались новым знакомым в своей неискренности в иммиграционных вопросах. Во многих случаях законопослушные собеседники таких людей считали своим долгом сообщить о них в иммиграционные службы, хотя во время разговора ничем не проявляли своего неодобрения.
Часто прямолинейность русскоязычных иммигрантов воспринимается американцами, как грубость, тогда как выходцы «из наших широт» жалуются на то, что не могут понять, что скрывается за цветистой вежливостью американцев, и какие на самом деле намерения у их собеседников. С другой стороны, американцы упрекают россиян в том же самом, сетуя на то, что иммигранты с постсоветского пространства с трудом решаются сказать, чего хотят на самом деле. Словом, варианты могут быть настолько разнообразными, что становится очевидным: граница проходит не по степени открытости, дружелюбия или искренности. Скорее, главная разница заключается в том, какое место другой человек занимает в жизни русских и американцев.
«Путь героя»
Чтобы понять это место в постсоветской культуре, важно вспомнить, какой след оставило так называемое «советское воспитание» в менталитете наших соотечественников. На протяжении десятилетий в людях взращивались неосознанные запреты на счастье, удовольствие, радость и прочие естественные проявления человеческой жизни. Этот запрет, конечно, не был абсолютным, однако простые человеческие радости всегда ставились в зависимость от более «высоких» категорий: героизма, самопожертвования, альтруизма, преданности идее и так далее. Именно они провозглашались как основной смысл человеческой жизни, и в отрыве от этих «великих идей» обычное счастье клеймилось «мещанством», «буржуазными пережитками» и прочими нелестными эпитетами. Соответственно, человек не чувствовал себя вправе радоваться без «уважительной причины».
Лучше всего этот феномен описывается категорией так называемого «морального права». Сюда равно подходят как установка: «Я не имею морального права наслаждаться жизнью в новой стране, если я не защищаю ее», так и противоположная ей максима: «Я не имею морального права наслаждаться жизнью в новой стране, если я тем самым не защищаю собственную страну». Поскольку потребность быть счастливым свойственна каждому человеку, запрет на «легкое счастье» породил концепцию сложного, при котором человек все же мог позволить себе быть счастливым, только предварительно выполнив ряд условий: совершив подвиг, выполнив «стахановскую» норму труда или просто делая что-то не для себя, а для другого.
Отсюда и возникла конструкция обусловленного («сложного») счастья: «Я сделал важное дело, и вот теперь имею право отдохнуть» (позволять себе отдыхать просто так, из-за простой усталости, не поощрялось). То же самое касалось привязки важных атрибутов жизни к другим людям: «Завтра приезжает мой друг / родственник / большой начальник, и вот тогда мы сможем это отметить, пойти в ресторан, «накрыть поляну» и т. д.» (устроить праздник себе самому или своим близким просто так, без повода, было не принято). Выбор поводов и друзей, в свою очередь, часто определялся делом или идеологией: «Мы делаем одно дело, поэтому должны дружить»; «Мы единомышленники, а значит, друзья и соратники».
Эти спонтанно возникшие в обществе конструкции, с одной стороны, действительно увеличивали жертвенность людей, поскольку жизнь выстраивалась по принципу: не пожертвуешь – не порадуешься. С другой стороны, они облегчали драконовские требования эпохи, создавая своего рода «психологическую инфраструктуру героизма» – среду, в которой было комфортно существовать альтруистам.
Человек, условно говоря, совершивший подвиг, наконец чувствовал, что теперь имеет моральное право быть счастливым и даже просить помощи у своих соратников. Соратники, в свою очередь, чувствовали, что морально обязаны помочь ему, поскольку не только делали этим добро своему товарищу, но и вносили посильный вклад в общее дело. Более того, желание доставить радость такому «герою» была подчас едва ли ни единственным способом повеселиться самим, как говорится, за компанию. В результате этого чувства взаимных моральных обязательств люди получали какую-то психологическую отдачу за свои труды и набирались сил для новых «подвигов».
Сложное против простого
Годы прошли, люди разочаровались в советских идеях, а вот конструкция «сложного» счастья и иррациональных моральных запретов и долженствований успешно пережила идеологию и сохранилась в постсоветском культурном коде. В результате место, которое занимает другой человек в нашей жизни, порой очень велико, ведь зачастую именно он – это наш единственный повод позволить себе быть счастливым. Если же добавить к этому объективно сложные условия жизни на постсоветском пространстве, в которых действительно трудно выжить без верных друзей, можно понять, почему другие люди настолько значимы в нашей жизни.
Конечно, такое сознание присутствует не у всех, и современные люди гораздо больше стремятся к автономности, но в том или ином виде многим нашим иммигрантам свойственны установки, что счастье нужно заслужить, а баловать себя – вредно. Американцам же в большинстве своем, в отличие от нас, свойственна концепция «простого счастья», при которой человек может позволить себе удовольствия просто потому, что хочет этого.
У американцев, известных своим уважительным отношением к праву юридическому, практически отсутствует концепция «морального права». Они не считают, что должны заслуживать право на счастье, и уж тем более совершать ради этого подвиги. Напротив, в Америке существует концепция презумпции полной добровольности любых действий и первичности личного интереса. Таким образом, если вы что-то делаете, автоматически считается, что это нужно именно вам. Это не значит, что американцы не делают добра, но совершают они его исключительно добровольно, по внутреннему побуждению, прекрасно понимая при этом, что они ничего никому не должны и, соответственно, никто не должен им. Понятно, что это снижает уровень альтруизма, однако помогает точнее рассчитать собственные ресурсы. А главное, американец не нуждается в другом человеке как в поводе для того, чтобы что-то сделать для себя.
Что лучше?
Словом, американцы гораздо меньше зависят от других, чем люди постсоветской культуры. Соответственно, и дружба занимает в их жизни не такое глубокое место, как в нашей. Они стараются не злоупотреблять дружескими отношениями и справляться с трудностями самим. При этом трудно сказать, какой подход лучше. С одной стороны, концепция взаимопомощи и взаимозависимости друзей выглядит привлекательно, потому что хоть на время позволяет человеку полностью расслабиться, не думая о себе – ведь о нем позаботится друг. В этой культуре существуют счастливые моменты встреч и «поводов», которые доставляют особую радость и призваны сгладить тяжелые условия жизни или работы. К тому же характер такой дружбы более личный и «исповедальный».
С другой стороны, такая формула таит в себе немало рисков. Что делать, если вы, допустим, ошиблись в человеке, и он не считает, что обязан воздать вам за все труды и жертвы (даже если люди сами просят жертв и обещают такое воздаяние)? К тому же концепция «простого счастья» также таит в себе множество прекрасного. Люди, позволяющие себе быть счастливыми вне зависимости от заслуг и друзей, умеют прислушиваться к своим желаниям, жить в согласии со своими чувствами, не требуют от себя невозможного и не запрещают себе удовольствий. Они не рискуют, бросаясь на амбразуры, и не ждут, что кто-то поможет им справиться с непосильным грузом. Они, возможно, не способны на подвиги, но зато гораздо лучше приспособлены к повседневности.
Вряд ли эти две модели счастья можно совместить, поскольку «простая» модель предполагает более высокий уровень осознанности, чем «сложная». Но хорошая новость заключается в том, что в «дружбе по-американски» тоже есть место и серьезным разговорам, и теплым встречам, и приятному досугу. Но если на родине у вас остались по-настоящему близкие и верные друзья, важно понять, что вы не найдете им замены не только из-за иммиграции, но и потому, что такие люди в принципе незаменимы.