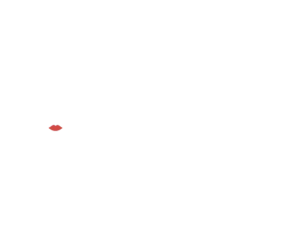Евгений Кунин, американский исследователь, эмигрировавший из СССР еще в 1991-м. В октябре 2017-го он попал в “десятку” самых влиятельных биологов США мира.
Сидя у себя в кабинете в городе Бетесда, штат Мэриленд, он между делом показывает пальцем на изображение двойной спирали ДНК под стеклом, составленное из портретов ученых: «Вот у меня есть грамота, которую выдали всем, кто участвовал». Это исследование потом процитируют в других научных работах как минимум 19 836 раз (статистику собирает Google Scholar), а всего на работы Кунина сослались в общей сложности 134 000 раз, и цифры растут дальше. Он — самый цитируемый из биологов, когда-либо работавших в России.
Кунину 60 лет, его недавно избрали в Национальную академию наук США, но он меньше всего похож на академика, какими мы привыкли их себе представлять по фото с ежегодных сессий РАН.
На официальном групповом снимке он позирует в джинсах и футболке с надписью «Рио» и ходит прыгающей походкой подростка.
Где другие видят буквы, Кунин видит кое-что посложнее. В его описании устройства ДНК встречаются «темная материя» (термин из космологии) и «подпорки-пандативы» (термин из теории крестово-купольной архитектуры), «гипотеза Красной Королевы» и «бюрократический потолок сложности». Это все можно было бы принять за лирику и попытку изъясняться повозвышеннее, если бы за каждым таким словосочетанием не стоял в каждом случае тот или иной строгий абстрактный принцип, для которого пока просто не успели придумать более приземленные метафоры.
— Интерес к биологии у меня был с самого детства. И вспомнить, когда он появился, пожалуй, невозможно, потому что он был столько, сколько я себя помню. Вначале, естественно, это были какие-то интересы ко всяким симпатичным теплым существам, к животным. И я, соответственно, читал различные тексты об их жизни. Потом, уже в школьные годы, в Советском Союзе были такие замечательные вещи, как школьные кружки. Был Дворец пионеров, который, наверное, есть и теперь, и там были школьные кружки, как ни странно, по довольно серьезным вещам, таким как биохимия. Все было достаточно серьезно поставлено. И вот оттуда в довольно нежном возрасте пошел мой интерес буквально к тем вещам, которыми удается заниматься теперь.
 О выборе профессии
О выборе профессии
Совершенно однозначно, что со школьного возраста, где-то лет с 15, у меня была полная определенность, что можно в жизни заниматься только и исключительно наукой, а если не сложится, то это просто беда. Я был не один такой, я учился в биологическом классе (школа №135, в самом центре Москвы), и там по крайней мере половина моих одноклассников имели точно такое же ощущение. Поэтому вопрос о том, куда идти после школы, не стоял. Но дело в том, что, конечно, тогда был большой страх на биофак не поступить. По разным причинам. Во-первых, это просто было нелегко. Объективно. Хотя если подготовка была хорошая, то бояться было нечего. Во-вторых, была антисемитская государственная политика, хоть и довольно непоследовательная, и не всегда было ясно, как она проявится вот в этот год. Поэтому было очень большое беспокойство. И были всякие запасные планы, куда потом поступать. Но в итоге все вышло удачно.
Биофак был довольно замечательным местом. В целом я его вспоминаю с теплом и любовью. Ведь 1970-е годы — это такое интересное время, когда сливалось и взаимопроникало совсем старое и новое. У нас были еще настоящие профессора, так сказать. Уже пожилые люди, которые последние годы читали лекции. Это была такая настоящая традиция полевой биологии, она как-то еще жила. А наряду с этим было, конечно, много волнующе нового. В частности, такие вещи, как кафедра вирусологии, куда я определился, и кафедра молекулярной биологии. Казалось, что это новая наука, и так оно и было, конечно.
О школьных олимпиадах
В 1973 году мы разделили первую премию на биологической олимпиаде среди десятиклассников с небезызвестным теперь Алексеем Кондрашовым. Замечательная вещь была — городская биологическая олимпиада, она была очень интересная. Происходила эта олимпиада в три тура. Первый тур был просто на знания, как контрольная работа, но с интересными вопросами, конечно, иногда очень нетривиальными. А вот второй тур был уже другой. Нужно было ходить по всяким специализированным кабинетам на биофаке и проявлять какое-то более практическое знание конкретных областей. Например, определять птичек по чучелу (или, как тогда говорили, по тушкам) или на что-то в микроскоп смотреть. Не то чтобы надо было непосредственно ставить эксперимент, но все-таки задания были гораздо более практические. А потом был третий тур — собеседование с кем-то из профессоров. Это тогда было очень интересно для школьников.
Насколько я понимаю, это есть и теперь в каких-то формах. У меня есть друзья, которые занимались олимпиадным движением, были в соответствующем комитете. Поэтому, пока я учился и несколько лет после, я отлично знал, как это все происходит, хотя и не принимал участия. Сейчас в Америке с этим довольно хорошо поставлены дела. Есть несколько исключительно престижных, серьезных конкурсов, таких как Westinghouse competition, Siemens Competition, Intel Competition. В основном это математика, особенно вычислительная, но есть и биология. Кроме того, ездят школьники и на международные олимпиады, особенно, конечно, по математике и физике. Про биологию как-то не слышал. В последнее время наши, американские математические команды стали выступать хорошо. Так что все это имеет место, да. На самом деле это все хорошо, но более важно другое. Здесь чрезвычайно принято в среде учащихся из школ, в первую очередь, конечно, каких-то специализированных (как у нас говорят, magnet schools), на лето идти работать в университеты или научные институты и набираться там исследовательского опыта. Некоторые ребята просто замечательные, прекрасные программисты, в частности. У меня в лаборатории были случаи, когда такой студент до поступления в университет успевал напечатать 2–3 статьи.
О влиянии
Если говорить о книгах, то, конечно, были те, которые оказали на меня влияние. Но это было немного не так, как можно было бы предположить со стороны, потому что это была уже сугубо научная литература. Можно упомянуть один аспект из детства, который, может быть, характеризует былые реалии. Дело в том, что моя мама работала всю жизнь в Библиотеке иностранной литературы (весьма знаменитая в советские годы как рассадник либерализма ВГБИЛ), поэтому у меня был очень хороший доступ именно к этому, к иностранной литературе, более-менее к любой, к какой хотелось. И, к счастью, я этим пользовался с ранних лет. Читал научную литературу, которая по разным причинам интересовала, причем прямо в оригинале, по-английски. И я помню, что на меня производило впечатление. Мне просто повезло, потому что мне попались в руки ранние статьи по молекулярной эволюции, написанные Эмилем Цукеркандлем и Лайнусом Полингом (Zuckerkandl and Pauling), которые я прочитал с невероятным интересом и восхищением. Это не было уж совсем легко, но тем не менее понятно и доступно. И я уже в то время как-то чувствовал, что это и есть то, чем хотелось бы в жизни заниматься, и, как ни странно, это удалось.
Что касается моих преподавателей, сложилось так, что профессор Вадим Израилевич Агол с кафедры вирусологии был моим руководителем как на дипломной работе, так и диссертационной и потом еще несколько лет. И конечно, я перед ним в совершенно неоплатном долгу. В первую очередь потому, что он создавал обстановку настоящей науки. Независимо от возможностей лаборатории был поставлен очень высокий стандарт. Было ясно, что мы должны знать, что печатается в последних нормальных международных журналах, сами должны там напечататься. Может быть, не в Nature, пусть не в самых лучших, но в приличных. И таким образом он воспитывал нас. Особенно это имеет значение в студенческие годы, нас готовили к настоящей науке. Это крайне важно.
О временах
Я поступил на биофак в 1973 году, и это было такое политически напряженное, довольно мрачное время, высылка Солженицына и различные события вокруг этого. А с другой стороны, в университете на нас сыпалась история партии — обязательный предмет. На все это, конечно, не реагировать было невозможно. Например, мой выбор кафедры, в значительной степени определивший последующую жизнь, зависел не только от совершенно искреннего интереса к вирусологии, но и от того, что кафедра имела либеральную репутацию. Там были молодые профессора, и как-то жизнь была там настоящая, как нам казалось, и это не было ошибкой. Вообще было хорошо, была и студенческая дружба, и все, что ей сопутствует. Что касается чисто научной жизни, то мы начинали по тем временам рано. Я с третьего курса уже работал, пытался работать в лаборатории. Без особого успеха поначалу, но я проводил там много времени.
Лаборатории всегда были оснащены плохо. Плохим было снабжение реактивами. Все это делалось неправильно. Не то чтобы не хватало денег, а были неправильные подходы. В Советском Союзе всегда был упор на тяжелую промышленность, в некотором смысле в лабораториях тоже. Закупали что-то большое и тяжелое. А на то, чтобы действительно оперативно поставлять реактивы, что самое главное для работы в биохимии и молекулярной биологии, денег не было, не было инфраструктуры, не было возможности. И вообще, конечно, большинство лабораторий были слабыми, отсталыми и никакими.
К счастью, были серьезные исключения, по крайней мере в плане отношения к нам. Потому что в те времена было принято делать «советскую» науку, ту, которая делает все открытия впервые в нашем коридоре. А это ужасно на самом деле. Многие люди на этом застревали. Мое счастье и в какой-то степени собственная заслуга в умении правильно выбирать были в том, что я никогда не попал в такую лабораторию. И если мы не всегда могли делать эксперименты на правильном уровне, то мы это понимали по крайней мере. Мы понимали, что нужно печататься пусть не в самых лучших, но в нормальных журналах. Все осознавали, что никакой «советской» науки не бывает, наука только одна — первой свежести, а остальное — тухлое (вольно цитируя главную культовую книгу тех лет).
О науке в России и за рубежом
Я думаю, что сравнивать советских и российских студентов с американскими — это бессмысленно. Здесь совершенно другая система. Конечно, есть увлеченные и талантливые люди всюду, но, в принципе, здесь четыре года колледжа — это время, когда большинство людей не решают, что они будут делать со своей жизнью. К лучшему или худшему это, но уж так построено. Они решают потом, в последний год из этих четырех. Человек даже может сделать какую-то научную работу (даже и в школе еще, как уже упоминалось, и потом в студенческие годы), но не остаться в аспирантуре, а потом пойти и делать что-то совершенно иное. Есть талантливые и увлеченные люди во все времена и в любом месте, к счастью, но здесь подход к жизни более прагматический. Науку огромное большинство рассматривает как профессию, более-менее такую же, как другие, не как призвание. Так что это сравнение просто неадекватно.
Наука рождается и делается преимущественно в университетах. В Соединенных Штатах это просто такая система. Все остальное — это как бы неважно. Закройте все остальное, и наука будет жить только в университетах. В Европе несколько не так. Есть там такие вещи, как Общество Макса Планка со своими институтами, которые уже не связаны с университетской системой, но все равно очень много делается именно в университетах.
Судить о российской научной политике — это не мое, это я не стану делать. Единственное, что могу сказать, — это то, что в России (не в дореволюционной, но, во всяком случае, в Советском Союзе, да и потом) имеет место вот эта странная организация, когда Академия наук является одновременно административным центром. Это странно. Вряд ли это может сильно способствовать прогрессу науки. Я думаю, что все-таки проверенная веками университетская система, где идет подготовка молодых ученых одновременно с собственно научной работой, работает намного лучше. Конечно, как именно проводятся реформы и какие конкретные при этом преследуются цели — это совсем другой вопрос.
Об эмиграции
Традиционный способ думать о переезде за границу предполагает, как правило, поступление некоего предложения из-за рубежа, осознание того, что в России делать больше нечего, и так далее. Но у меня это было как-то не так. Нынешнее молодое поколение, быть может, способно понять, но не может почувствовать, как мы жили в Советском Союзе. Это было своеобразно, это была такая система полуизоляции. Благодаря нашим научным руководителям нам, к счастью, было привито в молодости понимание того, что такое настоящая наука и где она делается. И мы все-таки, слава богу, имели доступ к научным журналам, он не прерывался. Мы могли все видеть, читать. С другой стороны, мы не могли погрузиться напрямую в эту настоящую науку, а, честно говоря, очень хотелось, было страшно интересно со всех точек зрения. Непосредственно работать, и, что греха таить, был спортивный интерес: а как я смогу выступить там, где для этого есть все условия?
И потом, в 1989 году, этот занавес внезапно рухнул. И вот я поехал на пару конференций. Одна из них проходила в 1990 году, это был Вирусологический конгресс в Западном Берлине. Туда из Восточного Берлина уже можно было свободно пройти через проломы в стене. И там мне пришлось встретиться со всеми людьми, о которых читал, слышал, и завести какие-то контакты. Стало понятно, что контакты эти, по счастью, интересны для обеих сторон.
Там же мне удалось наметить решение некоторой проблемы с одним коллегой, я получил приглашение приехать на три месяца в Штаты, в Техас. И, в общем, это реализовалось весной 1991 года. Приехав в эту командировку, я стал, конечно, смотреть кругом, где можно было бы заниматься тем, чем я хотел заниматься, то есть компьютерной молекулярной биологией, эволюционной геномикой (хотя тогда еще таких слов не было). Был новый центр, который называется немного странно, — центр биотехнологической информации (имеется в виду National Center for Biotechnology Information. — Прим. ред.). Для меня это было интересно, у меня было такое в целом правильное чувство, что это то место, где делается интересующая меня наука. Поэтому я поехал туда на интервью и получил предложение на два года. Идея была в том, чтобы поехать, поработать какое-то время в той обстановке, где делается настоящая, передовая наука, и я искренне думал, что это ограничится двумя годами. Хотелось посмотреть, что из этого получится. Посмотрели.
О нынешнем состоянии науки
Я, откровенно говоря, считаю, что наука развивается очень хорошо, несмотря на большое количество организационных трудностей и всяких проблем. По-моему, в любые времена, последние 2–3 тысячи лет, принято говорить, что раньше было хорошо, трава была зеленей намного, а теперь становится плохо, особенно когда человек уже немолод. Но у меня совершенно противоположная точка зрения. По-моему, наука никогда не развивалась так хорошо, как она развивается теперь. При всех трудностях. Конечно, специализация — это реальность, но это даже не зло. Просто работа становится все более и более технически сложной и требует все больше знаний, понимания различных вещей, умения, скажем, программировать. С другой стороны, это, по-моему, даже не очень большая цена, которую приходится платить за совершенно фантастический технологический прогресс, имеющий место именно в области проведения исследований, в результате чего скорость получения действительно новой информации возрастает с какой-то поразительной, гиперэкспоненциальной скоростью.
В течение XX века было несколько волн, когда физики, в том числе очень сильные физики-теоретики, двигались в направлении биологии. Это было очень-очень плодотворно и важно. И сейчас у нас есть такая волна, которая определенно еще мощнее, чем раньше. Мы очень много работаем с физиками, используя данные, а также новые достижения самой физики, чтобы построить некий другой уровень биологической теории. Не знаю, может быть, я, конечно, излишне оптимистичен, но мне эти попытки, в том числе те, в которых мне приходится принимать участие, представляются крайне плодотворными. Так что перпендикулярно тенденции к неизбежной специализации есть и тенденция кооперации, и в целом наука — это весьма здоровый организм. Несмотря на большое количество организационных проблем, трудностей с грантовой системой, проблем с широкомасштабными исследованиями, которые, мягко говоря, не всегда оправдывают надежды, и так далее, в целом, по-моему, мы живем в очень интересное время, замечательное время в плане науки.
Биология за последние 15–20 лет стала абсолютно другой. Дело в том, что мы сейчас можем прочитать геном любого организма, какого хотим. Это совершенно другой уровень знания и понимания того, как устроена жизнь. Раньше мы могли путем каких-то генетических и биохимических опытов, иногда очень остроумных, с большим или меньшим успехом гадать, что там такое написано в геноме. Теперь мы это определяем без особых затруднений. В этом смысле знаменитый проект «Геном человека», развивавшийся в конце прошлого тысячелетия, и все сопутствующие ему проекты — это просто гигантская революция во всей биологии. И она продолжается, причем с ускорением — «есть у революции начало, нет у революции конца», как пелось в советской песне в несколько ином контексте.

Об образе ученого
Образ ученого меняется. Конечно, mad scientist Альберт Эйнштейн, высовывающий язык, — это уже анахронизм. Профессия становится более массовой. Эксцентричность нивелируется, хотя и не исчезает. Тут, наверное, ничего не поделаешь. С другой стороны, ученые остаются теми же — те настоящие, серьезные ученые, которые двигают дело вперед. А их всегда меньшинство, иначе не бывает. Для них самое главное — что-то такое выяснить насчет того, как устроен мир. А биология все-таки теперь становится достаточно точной наукой. Времена романтического натурализма прошли безвозвратно.
Биология идет дальше. Молекулярная биология и геномика в каком-то смысле сливаются с экологией, потому что можно брать материал просто из любого участка среды: воды, почвы, сточных вод, воздуха — откуда угодно и определять, кто там живет, секвенировать их геномы. Это совершенно другой уровень характеристики всего биологического и экологического разнообразия, которое у нас на планете существует. Параллельно резко возросли возможности изменения генома. В частности, в результате использования новой системы CRISPR, в которой мне пришлось поучаствовать, эти возможности резко увеличились.
О научной цитируемости
На мой взгляд, количественное исследование чего бы то ни было практически всегда лучше качественного, если оно проводится как-то осмысленно, если подсчитывается что-то, что имеет отношение к делу. С другой стороны, никогда нельзя абсолютизировать какой-то один показатель. Если использовать индекс Хирша как единственный показатель продуктивности ученых, то это получается ерунда, хотя неполная. Но люди, которые сделали много, но опубликовали мало статей, достойной оценки не получают. Однако это легко учесть, принимая во внимание общее число цитирований. Что еще более важно, не получают достойной оценки молодые исследователи. Поэтому полностью полагаться на эти количественные показатели нельзя. Нужно использовать какие-то другие показатели, наряду, конечно же, с экспертной оценкой, что и происходит. Когда, скажем, у нас в Штатах нанимают профессора в приличный университет, на Хирша-то не очень смотрят. Зато сильно ценят публикации в элитных журналах, что показатель, кстати сказать, более сомнительный, чем эти количественные. Очень жаль, что этому придается такое большое значение. Но в целом я считаю, что все эти способы измерения имеют смысл. В российской научной среде всегда была, в том числе в мои времена, и, по-моему, сейчас остается довольно распространенной некая психология непризнанного гения. Мне она кажется неплодотворной. Если ты уже долгие годы якобы работаешь в науке и ни по одному количественному показателю никуда не прошел, то, скорее всего, ты что-то делаешь совсем неправильно. Так что я считаю, что это все полезно, но нельзя абсолютизировать ни сам количественный подход, ни уж точно какой-либо один показатель.
О популяризации науки
Несколько лет назад в русском переводе вышла моя книга «Логика случая». Сейчас я дописываю еще одну, она посвящена вирусам и их эволюции. Как я уже говорил, нет смысла переводить ее на русский: язык научного сообщества — английский, а эта книга рассчитана на довольно узкий круг коллег. Кому надо, тот поймет. Вот та книжка, «Логика случая», все-таки направлена на существенно более широкий круг. Я в этом сомневался, прямо скажу, но жизнь показала, что зря, русский перевод имел смысл. Я знаю очень много людей, которые это прочли в русском переводе и что-то от этого получили. Так что к популяризации в принципе я отношусь очень хорошо. Я бы рад написать популярную книгу, но как-то этого не умею. Наверное, более популярно, чем эта «Логика случая», не получится. А ее тоже не назовешь научно-популярной книгой в прямом смысле. А у многих получается писать такие книги, особенно у физиков. Но тут важная, по крайней мере для меня, оговорка: я люблю, когда науку популяризируют те, кто ее делает, действующие ученые, а не журналисты.






 О выборе профессии
О выборе профессии